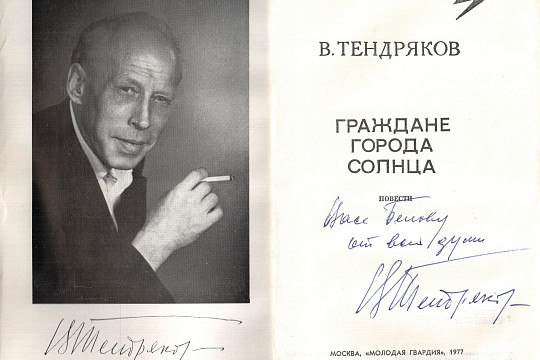В нынешнем октябре широко отмечается 90-летие со дня рождения писателя Василия Белова. Известный российский писатель, классик, один из родоначальников и лидеров деревенской прозы, общественный деятель, воитель за сохранение русского крестьянства и русского видения мира, Белов оставил яркий след в культуре не только Вологодчины, но и всей страны.
О себе он говорил: «Писателем я стал не из удовольствия, а по необходимости, слишком накипело на сердце, молчать стало невтерпёж, горечь душила».
Отчего становятся писателями, особенно продолжателями традиций «деревенской прозы», сегодня? Ответить на этот вопрос могут только сами авторы, которые в своих произведениях обращают взор на сельскую жизнь.
Для совместного проекта cultinfo и Музея-квартиры Василия Белова «Беловский круг» мы предложили современным авторам-деревенщикам поразмышлять на тему, чем для них является писатель Василий Белов. Каждый из них признался, что творчество и личность Василия Белова оказали на него большое влияние как в духовном плане, так и в писательском самоопределении.
***
Владислав Попов родился в Архангельске. Живёт в деревне Покшеньга Пинежского района Архангельской области. Член Союза Писателей России. Автор трёх сборников стихов и двух книг прозы «Ворота в синее поле» и «Росяной хлебушек». Лауреат премии «Имперская культура» им. Э.Володина Союза писателей России по разряду «Проза». Лауреат специальной премии «За вклад в развитие северной литературы» – «Чистая книга» имени Фёдора Абрамова – 2020 г.
Первые повести и рассказы Василия Белова я прочел, будучи ещё студентом историко-филологического факультета. Есть книги, которые приходят к тебе и остаются, как верные друзья, на всю жизнь. Вот такой книгой стали для меня «Плотницкие рассказы».
В то замечательное юное время я подрабатывал сторожем на автобазе, приходил к ночи, открывал дощатые двери шофёрской конторки, зажигал свет. Горько пахло застоявшимся табаком, машинным маслом, железом. За окнами было синё и сыро. Тополя глухо шумели.
Помню, я вытащил из сумки «Плотницкие рассказы». И читал всю ночь, изредка прерывался перевести дыхание, смотрел в окно.
«Было тихо, светло и чуть примораживало. В небе стояла круглолицая луна, – отчего-то повторялось во мне, – от её света ничего не могло спрятаться…»
Слова завораживали меня, томили, какой-то тихий, мерцающий свет, едва угадываемый, шёл от раскрытой книги. Как живые вставали передо мной и Олёша Смолин, и Авенир Козонков, и сам Константин Платонович будто сидел подле меня, поскрипывал стулом.
Я вставал, выходил на крыльцо, ступеньки серебрились изморозью. Я шагал вдоль гаражей, проверяя замки и засовы. Возвращаясь в каптёрку, думал, вот войду, а они там меня дожидаются!
Что в них такого есть в этих рассказах? Всё обыденно и просто: деревенская неспешная жизнь, деревенские мужики, «слова-разговоры», а вот не отпускает, удерживает своим светом и любовью, маетой сердечной. И болит за всех сердце.
Утром пришёл механик автобазы, сидел, длинный, тощий, смолил папиросу, косился невыспавшимся глазом на мою книгу.
– Белова уважаешь? Я – тоже. Вот «Плотницкие» – мои любимые! В деревню охота! А прочту «Плотницкие» будто и дома побываю…
Пишу эти строки – лежит передо мной та самая книжка, осязаемое напоминание о той самой незабвенной мартовской ночи. Мог ли я тогда думать, в каптёрке, что через два года судьба занесёт меня в Пинежский край Архангельской области, и я приживусь там, как приживается дерево, врасту корнями в эту тихую светлую землю. Построю дом. А какой деревенский дом без баньки! И будет у меня мастером старик-сосед, Александр Чуркин. Плотный, непоказливый, но сшитый крепко и твёрдо, как амбар. Ходил, подволакивая ногу, в раскачку, переваливаясь, и как Олёша Смолин походил отчего-то на пирата. «Щетина густо утыкала (его) подбородок», а выбритая голова светилась тусклым серебром.
Он приходил каждое утро, туго подпоясанный ремнём. В натопорнице – домокованной скобе – прочно сидел топор. В кармашке прятался источенный, но жалобный оселочек, поправить лезвие. И весь он был большой, широкий, грузный, медленный, но в каждом неторопливом движении прятались сила, сноровка и знание.
К чему я об этом пишу? А потому что в Чуркине жил удивительный, неутомимый рассказчик, и пока мы с ним строили дом, а потом баньку, сколько замечательных историй, весёлых и горьких, наслушался я от него. Про всю свою деревенскую жизнь он рассказал мне просто и доверительно.
– Ну вот же! – говорил я сам себе. – Теперь и у меня есть свой Олёша Смолин! И никуда он теперь от меня не денется, не уйдёт без следа, а так и останется в моих рассказах и будет жить не только в слове, но и каждом бревне, которое он положил в стену моего дома.
– Читал ли ты «Плотницкие рассказы»? – спросил я как-то его.
– Читал! – улыбнулся он. – Как же! Хороший мужик! Наш! Как Абрамова похоронил, ходил сам не свой. Мы к нему подошли, дай, говорим, товарищ писатель, три рубля опохмелиться, Фёдора помянуть. Так он не три рубля, а двадцать пять отдал! Пейте, сказал, мужики, поминайте Фёдора! Вот он какой, настоящий!
На следующий день Александр Чуркин принёс мне затёртую книжицу, «Плотницкие рассказы», такую же, 68 года. Я взял, не захотел признаваться, что есть у меня точно такая же, нечего было обижать старика.
Вот и получается, что всю мою жизнь «Плотницкие рассказы» со мной, как хлеб, как вода. Многое уходит, стирается, исчезает… Давно нет на свете моего «Олёши», Александра Чуркина, давно нет на свете и Василия Белова, но ведь душа-то их осталась и в этой светлой книге, что я храню все годы, в деревенских словах-разговорах и даже в печи, что сложил мой мастер. И греет она до сих пор, ласкает жаром. Значит, они никуда от меня не девались.
Они рядом, со мной, навсегда.
Теги: беловский круг