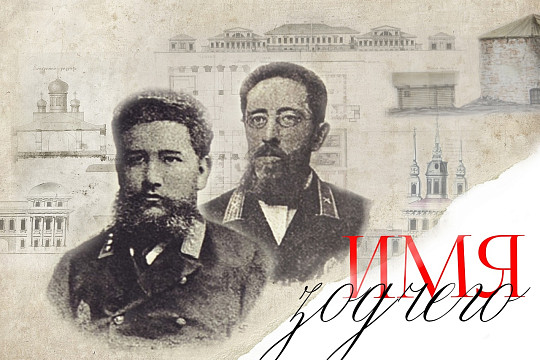Тотемское храмовое барокко конца XVIII века как культурное наследие региона обсуждалось уже не раз. В последний месяц это обсуждение было продолжено на Первой международной конференции «Искусство Востока – Восток в искусстве» (Москва) и V Международном форуме «Мир Центральной Азии» (Улан-Удэ). И обсуждать было что. В отличие от соседнего Великого Устюга, связь культурных традиций которого с Владимиро-Суздальской Русью давно изучена, архитектура Тотьмы – «невесть откуда возникший» и не имеющий региональных аналогов остров «высокого барокко» в вологодской глубинке – долго недооценивалась в науке. Лет двадцать назад появились сообщения о «родственниках» тотемских храмов, находящихся … в Иркутске и Западном Забайкалье, на 4000 км восточнее Тотьмы. Речь в первую очередь шла о тотемском картуше – замкнутой декоративной фигуре межоконного орнамента стен, ставшей символом города. Оказалось, что на ряде церквей в Прибайкалье выявляются картуши, сходные по конфигурации с тотемскими, а на иркутском храме Михаила Архангела (Харалампия) с юго-восточной стороны есть полная «картушная» аналогия с Тотьмой (об этом мы скажем ниже).
В связи с этим в науке родилась точка зрения, что тотемский стиль в «деградированной» форме был воспринят сибирскими мастерами, так как купцы, тотьмичи по происхождению, дескать выступали заказчиками строительства церквей как в Прибайкалье, так и на родине. Надо сказать, что авторы указанной концепции не проводили скрупулезного сопоставления тотемских и прибайкальских храмов, принимая идею «однонаправленного экспорта культурных влияний с Запада на Восток» как истину, не подлежащую доказательствам. Вопрос, как маленький город, не имевший до середины XVIII века каменных зданий, вообще мог повлиять на столь отдаленный регион, где традиции зодчества и орнамента были гораздо старше, просто не ставился.
Такая «колониальная парадигма» в истории архитектуры существовала не всегда. В 1920-е годы генез зодчества Прибайкалья рассматривался с учетом влияния соседнего Востока. «Азиатский Восток, – писал создатель термина «сибирское барокко», художник Д. А. Болдырев-Казарин, – всегда был классической страной орнамента, и русские тонкие мастера, любители узорочья не могли не поддаться еще раз очарованию изысканной экзотики искусства своих ближних соседей». И действительно Крестовская церковь в Иркутске, построенная в середине XVIII столетия, имеет неповторимый «восточный» декор в виде стреловидных и звездчатых многогранников, объяснить которые с точки зрения христианской символики весьма затруднительно.
Некоторые детали орнамента аналогичны изображениям буддистской мандалы.
Этот феномен имеет объяснение. Сохранившиеся в архивах «отписки» XVII века русских казаков и «служилых людей», бывавших в Китае и Внутренней Монголии, свидетельствуют, что буддисты допускали их в свои храмы на богослужения, пышность которых оказывала сильный эффект воздействия. Из приведенных свидетельств видно, что русские при описании веры монголов и китайцев, обращали внимание на такие понятные и близкие им атрибуты, как книжность, монашество, одежды священнослужителей, скульптурную и рисованную иконографию, колокольный звон, которые имелись в православии, но отсутствовали в знакомом им исламе. Веротерпимые же буддисты говорили русским, что в далеком прошлом они… исповедовали одно вероучение: «А говорят так: ваша де вера одна с нашею была, а старцы де ваши черны, а мы де старцы белые; да не ведаем, как наша вера от вашие отскочила».
Вернемся к витиеватому картушу тотемских храмов и их прибайкальских родственников. Технологии создания тотемского и прибайкальского картуша весьма непохожи друг на друга, чтобы считать один упрощенной копией другого. Если тотемский картуш есть узорочье, набранное, как пазл, из определенных элементов фигурного кирпича, то прибайкальский картуш является щитовидным монолитом, выступающим над поверхностью стены, верх и низ которого дополняют фигурные наличники – «очелья».
Данный феномен, отсутствующий в архитектуре Тотьмы, был характерен для каменного зодчества Монголии, имея под собой практический базис. В условиях горностепного рельефа и сам объемный орнамент, и отбрасываемые им тени окрашивали поверхности стен в разные тона, улучшая видимость зданий. Этот феномен был воспринят и прибайкальским барокко. Кроме этого, щитовидные картуши также окрашивались либо в голубой, либо в темный цвет, усиливая зрительное восприятие храма с многокилометровой дистанции. Эта окраска видна и сейчас на картушах Спасского собора в Селенгинске.
Ныне храм одиноко высится на месте, где когда-то стоял покинутый людьми город. Фигурные «очелья» окон в Прибайкалье, даже без картушей-контрналичников характерны и для бурятско-монгольской архитектуры, что можно увидеть в Агинском дацане – самом старом буддийском центре Забайкалья.
В книге «По следам тотемского барокко» авторы не без поэтической фантазии повествуют, как купцы-тотьмичи, стоя на скале, советовали местным строителям применить в конструкции Селенгинского собора «красивые клейма, использовавшиеся в Тотьме». Мы думаем, что дело было как раз наоборот – местные строители не только рассказали, но и показали тотемским купцам замысловатые прибайкальские картуши, а те, вернувшись на родину, воплотили идею с помощью тотемских технологий и произвели ее эстетическое усовершенствование.
Происхождение прибайкальского картуша можно объяснить, не прибегая к тотемскому влиянию. Эволюция прибайкальского «узорочья» повторяет изменения формы оконного проема: прямоугольные окна храмов сопровождаются прямоугольным декором. Арочные более поздние окна окружены уже фигурными барочными картушами. В Тотьме данная закономерность отсутствует. Вычурные картуши почти всегда сочетаются не с арочными, а с прямоугольными проемами окон. Вместе с тем, на определенном этапе между прибайкальской и тотемской школами возникло взаимодействие – картушный «диалог». Сравним Входоиерусалимскую церковь в Тотьме и храм Харалампия в Иркутске.
Эти два строения имеют закономерность. Нижний ярус картушей юго-восточной стороны Харалампиевского храма представлен чисто тотемскими картушами, аналогичными таковым на юго-восточной стороне церкви Входа Господня в Иерусалим в Тотьме. Нижний же ярус обоих храмов на северо-западной стороне также представлен однотипными картушами, но «сибирскими щитовидными» (на тотемском храме они находятся в перевернутом положении). Оба храма имеют одинаковую ориентацию по сторонам света и одинаковое осевое направление – с северо-востока на юго-запад. Связано это, вероятно, с их общей «историко-экономической» судьбой. Входоиерусалимская церковь в Тотьме была сооружена купцами Пановыми, промышлявшими морского зверя на Алеутских островах и державшими в руках торговлю с Китаем в Кяхте. Харалампиевский храм Иркутска также называли морским – здесь благословляли моряков, уходящих в морские экспедиции. Он связан с именем купеческих династий Трапезниковых, Сибиряковых, снаряжавших экспедиции на Камчатку, Алеутские и Курильские острова. Прихожанином Харалампиевской церкви был мореплаватель Григорий Шелихов. Так, международная торговля в XVIII столетии не только изменила вектор движения товаров из Китая и Сибири на российские ярмарки, но обусловила экспорт восточных эстетических вкусов в Европейскую Россию.